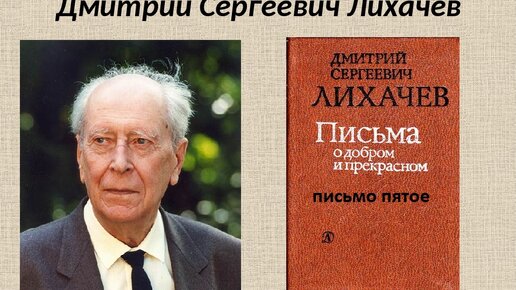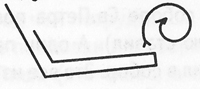ПИСЬМО ПЯТОЕ
Здравствуй дорогой, золотой. Я скучаю по тебе и жажду видеть, слышать, осязать и мять. Еще не получил от тебя ни одного письма. Наверное, в Риме на Poste-restante уже есть от тебя весточка. Желаю сообщить тебе конспективно содержание 10 главы из книги о драматическом искусстве. Начинаю.
Надо глубже проникнуть в понимание драматического искусства. В древние времена в тех местах, где зародилось начало театра, представления захватывали очень большой диапазон. Они касались высоких… образов и сумели импульсы этих образов проводить вплоть до самого материального, физического. Путь к пониманию этого и к применению на сцене таков. Надо углубиться во вкусовые ощущения. Кислое переживается по краям языка. Сладкое -на кончике языка. Горькое — на корне языка и на нёбе. Слово «вкус» — применимо и к чувствованию кушаний, и к оценке искусства и морали. Вживаясь во «вкусы» на разных областях языка, мы поймем, что физическое возбуждает ощущения на тех же путях, как и моральное возбуждает речь. Ведь теми же органами, какими мы говорим, мы ощущаем и вкусы: сладкое, горькое, кислое. Если переживание моральной горечи на сцене будет подкреплено переживанием (в представлении) вкуса горечи на языке, то это будет иметь большое значение для произнесения в это время слов, для мимики и даже для жестов. Здесь заключается тайна перехода от ощущений к речи. Когда мы ощущаем кислоту уксуса, то возбуждаются мельчайшие органы языка, которые более пассивны. Когда же «тетка» имеет кислое лицо, то у нее возбуждены также мельчайшие органы на языке, но более активные. В древних, древних местах представлений изображались различные нечеловеческие существа при помощи хора. Особый вид рецитации хора был тем, что нечто могло через него действовать и между сценой и зрителями распространялась особая атмосфера, в которой зритель находился в другой среде и переживал страх перед Высшими (в лучшем смысле слова). Постепенно терялась способность человека переживать что-нибудь, что не было бы простым натурализмом. То, что как plastisch — materisch — musikalisch жило в слове и в полной стиля рецитации и служило для изображения Высшего, — заменилось фигурой самого человека. Человек стал изображать Диониса, присоединяясь к хору. Он надевал маску, что должно было служить выражением постоянного, соответствующего Вечности, неподвижности, ибо маска животного — неподвижна, лицо же человека вечно в движении и не может служить символом Вечного. Неподвижное человеческое лицо — это уже смерть. Человек чувствовал нечто за явлениями природы, но вот он научился чувствовать нечто и в себе, как бы эхо того, что он видел за явлениями природы. И человек стал представлять в этом смысле свое внутреннейшее. А отсюда вышло: представление человеческого душевного. И техника, и смысл обучения современному театр<альному> иск<усству> заключается в том, чтобы актер был в состоянии совсем забыть на сцене себя как житейскую личность, как обыденного человека, и через Sprachgestaltung — в полном значении этого слова -смог бы окружать себя на сцене атмосферой, которую зритель инстинктивно воспримет.
Из главы 11. Всякое физическое, физиологическое действование актера на сцене должно иметь под собой почву, которая создается тем, что актер научается чувствовать и переживать значения различных букв. Нельзя выражать нечто на сцене внешне, если под этим не живет буквенное настроение. Напр<имер>, гневу надо учиться так: гнев состоит из двух частей: 1) напряжение и натяжение мускулов и 2) расслабление, ослабление, засыпание. Первой части соответствует i, второй е. Нужно, готовясь изобразить гнев, предложить кому-нибудь читать место гневного текста и самому в это время внутренне интонировать ie — ie и сжимать и распускать мускулы. Это будет правильным подходом к изучению внешних проявлений актерского искусства. Забота: ö — и медленно опускающиеся жесты и веки. Если ты загримирован бледно, то — как постоянная характерность — должны быть сжаты губы. Автор дает очень много таких примеров, но я их выпущу, чтобы скорее дать тебе цельное представление о книге. Надо знать некоторые тонкие соотношения, встречающиеся в жизни. Напр<имер>. вздох, стон невозможны при глубоком горе. Они возможны, если делается усилие побороть горе, если хотят перейти через него, если его побеждают хотя бы для того, чтобы смочь произнести фразу. Мимике плача учатся через а, мимике смеха (и красоте смеха на сцене) через оо (или — слабое äa). Много пропускаю. Подобные способы обучения, закономерные проявлениям эмоций на сцене, сильно ускоряют развитие актера. И кроме того, развивают многие другие части организма актера. Напр<имер>: слушание печального: неподвижное лицо и покачивание головой, но в это время правильно развивается сама собой грудобрюшная преграда и нижняя часть туловища. Я уже писал тебе о значении ритмического жеста, который должен, как отражение, жить в актере при произношении букв. Нужно добавить, что упражнение в ритмическом жесте дает актеру действительно постижение сущности языка и драматического иск<усства> в частности. Даже положение человека в Weltall (во Вселенной. — Примеч. ред.) прояснится. Сравни звуки животного и речь человека. Человек благородно поставлен в середину Weltall. Словом, упражнениям в ритмическом жесте автор придает generale Bedeutung (генеральное значение. — Примеч. ред.). Чтобы постичь, чем является человек в Weltall, автор предлагает подумать о том, что человек может: в гласных выразить свое внутреннее, в согласных сопережить внешний мир, и к этому присоединяются жест и мимика.
Глава 12. Существуют драматические произведения двух родов: I — произведения, где автор исходил из интереса к матерьялу драмы, к характерам и пр. В этих драмах нет полного проявления художественного, поэтического стиля. Драмы второго рода: II — поэта интересует стиль, художественность произведения, как таковая, он исходит из художественного чувства и желания и тогда уже, как вторичного, ищет себе матерьял для драмы. Эти произведения полны того, что автор называет: художественным, стильным. Драмы I рода, напр<имер>: «Разбойники»,«Götz von Berlichingen» («Гёц фон Берлихинген». — Примеч. ред.) (Гёте), «Фауст» (I часть), «Дон Карлос», «Фиеско», «Kabale
Глава 13. Пьеса как литературное произведение есть только партитура для актера. Он должен снова воссоздать в себе пьесу. Партитура есть нулевой пункт между автором и актером, и в этом пункте актер и автор, идя друг к другу, должны встретиться. Партитуру надо разбирать в двух направлениях. I — отдельные характеры и их гармонические сочетания. II -вся вещь в целом. Характеры надо разбирать и оценивать, исходя из букв и связывая с буквами (Lautbedeutung) (значение звука; Laut = звук, автором писем переводится как буква. —Примеч. ред.). Для этого надо уже сильно вжиться в буквы вообще. Вещь в целом разбирается тоже в связи с буквами, исходя из букв. Трагедия имеет свой закон, комедия — свой. Трагедия идет: от u (ужас, страх) к e (сострадание) — это высшая точка трагедии, и затем идет обратно к а. (изумление). Ü — в конце пьесы чуть-чуть где-то вдали звучит. Комедия: от i (в качестве любопытства) к ö (трусоватость, страшок) и кончается на ä (удовлетворение) (см. схему). Относительно костюмов забыл добавить, что их можно модифицировать в смысле характера и фигуры героя, не надо делать из людей «винты»! Не делать произвола и бессмыслицы.
Здесь расположены в круге те же буквы, которые даны были раньше, как способ развития Sprachorganismus’a.
Глава 14. Аристотель определял трагедию как катарсис (очищение), который происходил оттого, что публика переживала эффекты: ужаса (ü), сострадания (е) и приходила к переживанию (о). Публика исцелялась от гнетущих ее в жизни аффектов. Катарсис происходил от повторных созерцаний трагедии. Аристотель указывает своим определением трагедии на связь ее с древними местами представлений, где поднимались от чувствования физического — выше. Но автор предлагает не смешивать, все-таки, трагедии с древними местами представлений. Комедию Аристотель определяет так: это есть замкнутое в себе самом действие, имеющее целью вызвать в зрителе чувства: любопытства (i) и тру-соватости, страшка (ü), через которые интерес человека к жизни — повысится.
Но все, что автор дает как результат своих исследований, все должно быть понято через жизнь букв, через Lautbedeutung. Он говорит: драматич<еское> искусство должно стать истинным переживанием человеческого душевного, воплощенного в языке и жестах. О декорациях: декорации нельзя стилизировать в изменении форм и линий. Стилизация декораций — в свете и красках. Декорация не есть ландшафт, не есть картина. Декорация не самостоятельна. Она не готова сама по себе, как может быть готова и закончена картина. Декорация готова только тогда, когда она освещена и когда ее воспринимают вместе с тем, что в ней происходит как представление. Декорация — добавление к представляющему актеру. Итак: свет и краска — есть средства стилизирования декораций. В красках живет вся человеческая душа. Поэтому так важны краски декораций и костюмов.
Внешняя краска может быть пережита как внутренняя. Напр<имер>, красная кричащая — как радость, зеленая -как задумчивость, желтовато-зеленая — как душа, пожираемая эгоизмом, и т.д. Раз поднят занавес — зритель должен видеть краски, которые излучают души. Он должен также слышать то-на, в которых звучат души. Гармоническое созвучие красок костюмов, декораций и сменяющихся по ходу дела освещений -воздействует должным образом на зрителя. Общее настроение пьесы выражается в смене цветных освещений. Характер лиц выражается в расцветке их костюмов (вплоть до таких деталей, какого цвета галстук на действующем, уже не говоря о костюмах несовременных). Тут говорит автор о значении наблюдения радуги для постижения жизни красок. Теперь, забегая вперед, выпишу тебе несколько практических упражнений для речи. Их надо глубоко продумать и делать. 1) Stosslaute (d, t, g, b, p, m, k, n) — соответствуют твердому элементу, земле. Они, будучи произнесены, стремятся к земле и в ней работают. Каждая из этих букв формирует определенным образом воздух, напр<имер>:
(как бы вьющееся растение) и т.д. Надо самому фантазиовать, искать эти формы. (Изображена клякса. — Примеч. ед.) (Это просто клякса.) Bläserlaut’ы (h, ch, j, sch, s, ,f, w) соответствуют огню, теплу. Когда мы произносим одну из их, мы должны чувствовать, что возникает теплота, огонь, мы воспринимаем этот огонь назад, как укрепление всего нашего существа. Zitterlaut (г) — соответствует воздуху, Wellenlaut (I) — соответствует воде. Мы можем упражняться в том, чтобы сознательно переливать один элемент в другой. Напр<имер>, водный элемент мы закрепляем: Leib.. Твердый элемент делаем жидким: Beil. Водное обращаем в воздушное: leer. Воздушное претворяем в огненное: rasch и т.д. Любые бесчисленные комбинации. Но это еще не все, и тут начинается второе упр<ажнение> (приводящее меня в восторг). Особого рода сочетания этих букв рождают у актера особую способность, а именно: сочетания Stoss- и Wellenlaut, которые автор называет особым термином Stosswellen, напр<имер>, Keil, Lied, Tal, Latte, Beil, Leib и любые другие (я делаю и по-русски) дают актеру следующим образом выраженные автором способности: слова сочетать и замыкать в предложения, причем предложения получают дивный и красивый исток. Речь приобретает способность быть такой выразительной (eindringlich), что родится постепенно уверенность: «то, что я говорю, — будет воспринято слушателем». Речь приобретает внутреннюю пластическую силу — способность перехода, переливания одного словесно-дивного в другое. Все предложение как единый поток (Strömung) — дивное, поразительное ощущение во рту, когда течет речь. Теперь сочетание других букв: воздух и огонь, т.е. i и все Bläserlaut’ы (h, ch, j и т.д.). Напр<имер>: Reif, Reis, Reich, Rasch и любое другое сочетание г с Bläserlaut’ами. Результаты этих упр<ажнений> выражены автором так: произнесенное актером получает возможность жить везде-везде в зрительном зале, на галерке, в партере, словом, везде живет слово актера. — Течет и плывет речь через всю аудиторию. — Дрожание воздуха (г) переходит в движение через переход к Bläserlaut. — Открытие себя вовне. Дальше: чтобы приобрести способность гипнотически действовать на публику, надо произносить uäh. (Но увы, тут в книге путаница: среди замеченных опечаток предлагается исправить вместо uäh — veiw.) Это разница. А по смыслу всей главы надо uäh, а не veiw. Так что пока не делай этого и жди, когда я узнаю и разберусь, что, собственно, правильно, и тогда сообщу. Дальше: произнося слоги: hum, harn, hem, him, hom, häm, hm (порядок не важен), мы получаем в результате (или иначе: ставим себе целью) практическое узна-ние того, что значит: формирование воздуха (Luftgestalten) в грандиозном масштабе (in grandiosen Weise). — Получаем общее представление о том, что такое порыв речи (allgemeinste Schwung der Sprache). — Произнося в конце означенных слогов букву m, мы познаем, что собственно есть тот Stoss, тот толчок, который живет во всех Stosslaut’ax. — В упражняющемся возникает важное чувство внутреннего самостоятельного Sausen (не знаю, как перевести). — Осознается второй самостоятельный человек в нас, человек, который говорит и который должен отделиться от нас, чтобы мы могли, управляя им извне, стать истинными художниками слова. Мы — свободны от его. Он — тот, кто говорит. Он — наш Sprach-инструмент. Он — наш материал. В этом ищи идею Sprachgestaltung. -Нечто освобождается и живет в чистых вибрациях. — Кроме того, я тебе, кажется, уже писал что-то о значении этого упр<ажнения>. Теперь следующее упр<ажнение>. Речь актера должна быть насыщенной чувством, должен в речи звучать внутренний тон чувства (Gefühlston). Для этого надо упражняться в том, чтобы внешние ощущения, внешние чувства — переводить внутрь, делать их внутренними и выражать в особом словообразовании, которое тебе лично кажется для этого подходящим. Примеры из книги таковы. Внешнее тепло (скажем, в комнате) можно пережить внутренне и выразить словом: es saust. Или внешнее чувство: холодно — превратить во внутреннее и сказать: es perlet. Но чтобы действительно это perlet (искрится. —Примеч. ред.) было внутри, в каждой фибре твоего существа, в каждом члене. Автор говорит, что если мы наберем себе сами таких вещей побольше, то это будет то, что нужно. По отношению к этим и всем другим упр<ажнениям> надо помнить, что, учась одному чему-нибудь, мы незаметно научаемся в это время и чему-то другому. Нельзя, кроме того, думать, что если, напр<имер>, говорится, что определенный результат достигается при упражнении с буквами b и l то этот результат проявляется только при этих буквах. Нет. Упражняться надо на этих именно буквах, но результат распространяется уже как способность на всю и на всякую речь, независимо от того, какие там буквы. И вообще, важно чувствовать язык, речь. Sprache в целом. И надо вообще, как высшей цели, добиться того, чтобы речь стала легким делом, самостоятельно текущей, не отнимающей у актера особых сил на говорение, надо быть в состоянии, как говорится, будучи разбуженным ночью — произнести без труда монолог; монолог должен как бы сам собой выскочить из актера, а актер-то сам, человек, художник — должен быть в это время в стороне, свободный и даже восхищающийся со стороны своей художественной речью! Это и есть достижение истинного художественного Sprachgestaltung’a. Но для этого надо пройти всю ту буквенную и прочую школу, которую дает автор в своей книге, и довести усвоение всего до степени инстинкта.
Из 15 главы. Надо помнить, что искусство происходит из древних источников и то, что оно изображает, должно быть связано с идеей. Поэтому актер должен быть сам своим инструментом. Он должен уметь играть на своей физ<ической> организации, как на инструменте. Но рядом с этим актер должен воспитать себя как человека, глубоко интересующегося жизнью, чувствующего эту жизнь и не парящего в небесах. И вот, отделяя от самого себя особого «говорящего человека», мы встанем на верную дорогу. И достигнем еще очень важного — мы не будем поглощены и заняты содержанием, понятийным в речи. Мы, свободные, со стороны будем вдохновенно наблюдать и повелевать нашим же собственным произведением искусства! И наступит момент, когда актер поймет, что его жизнь на сцене есть особая часть его жизни, стоящая отдельно от обычной жизни, не смешивающаяся с обычной жизнью, и он не внесет на сцену натурализма, обыденщины и пошлости жизни и не вынесет о сцены в жизнь — отвлеченной рассеянности, делающей его ненастоящим человеком. Он будет жить полной жизнью, пока не зажглись огни рампы, и он же будет вдохновенно участвовать, наблюдать и повелевать самим собой, как произведением своего же искусства. Но нельзя быть одержимым своей ролью, нельзя быть медиумом. Это было бы не то. Надо рядом стоять со своей ролью, но радоваться и горевать, свободно созерцая свое произведение. (Не знаю, до-ходит ли то, что так косноязычно пытаюсь передать.) И тут снова говорится о величайшем значении наблюдения акте- ром радуги. Об этом я тебе писал. Теперь необходимо еще одно: надо развить тонкое, интимное чувство по отношению к своим сновидениям, к образам сновидений. Надо с полным пониманием погружаться в воспоминания своих снов. Надо вжиться в разницу между сном и обыкновенной жизнью Разница эта понятна и известна всякому человеку, но актер должен овладеть ею в особо высокой степени. Два полюса должен знать актер: обычное возбуждение жизнью извне, и глубокое, крепкое внутреннее, сознательное пребывание в воспоминаниях сна. Упражняясь в этих двух контрастирующих жизнях (сновид<ения> и явь), — постигается искусство сцены. И роль должна быть у актера так интимно взята внутрь, как интимно в нем может быть его сон, внутренне интимно. Итак: с одной стороны — роль совершенно готова в смысле Sprachgestaltung, совершенно легко и самостоятельно «выговаривается» во мне «другим человеком» в прекрасных словесных формах и, с другой стороны, — эта роль живет во мне как сон, она является мне в отдельных пассажах, подвижно, живо, пассажи эти сливаются, пополняют друг друга, живут, я их созерцаю, наконец, доходит до того, что частности как бы исчезают, и я получаю некое единое целое всей моей роли, как некий сон о всей моей роли! Понятен ли тебе самый фокус? А именно: с одной стороны, полное техническое совершенство речи и полное стиля художественное словообразование, с другой стороны — роль, как дивный сон. И ты — художник, свободный творец и наблюдатель собственного произведения. (Автор считает нужным предостеречь актера, который достигнет этого состояния, от головокружительного восторга перед самим собой!) И когда будет достигнуто это ощущение целого как картины, тогда художник получит возможность дать на сцене все самое лучшее. что в нем есть. И тогда (при ощущении целого) наступает самый подходящий и лучший момент для того, чтобы обставить, оборудовать (gestalten) самую сцену. Режиссер видит драму, ощущает ее как целую картину. <.. .> и тогда он знает, как сформировать и сконструировать все, что должно находиться на сцене. Он созерцает то середину, то конец, то начало, то любую деталь драмы и лепит их на сцене, но перед его взором неотступно стоит целое и руководит им. И все это достигается упр<ажнениями> со снами. Но ничего нельзя тут допускать выдуманного. Все должно быть взято из ощущения, из сноподобной фантазии. Современный театр нуждается в этой цельности. Видение целого и выявление этого целого есть непременное условие нынешнего театра. Автор много говорит в разных местах книги о театре под открытым небом, но т.к. время такого театра еще не пришло, то он и не считает своей задачей давать практических указаний по этому поводу. Но важно одно, что все, что он дает, касается театра в закрытом помещении, с декорациями, искусственным светом, вечерними спектаклями и т.д. И говорит, что если в театре на воздухе или во время Шекспира актеры кричали, а не говорили, теперь в театре закрытом надо до известной степени стушевывать игру, т.е. не смазывать, не доводить до той внутренней интенсивности, которая была бы необходима при представлении на свежем воздухе. Словом, необходимо то чувство, ощущение сна, полет сна, о котором говорилось выше.
И если актер доходит в своем развитии до того, что, играя, он в то же время остается, как было указано выше, объективным к своему произведению, то он заметит следую-щее. Идя, напр<имер>, домой после спектакля, он вдруг начнет видеть целый ряд всплывающих перед ним образов, которые он, сам того не подозревая, наблюдал в течение спектакля из зрительного зала. Он увидит целый ряд типов из коллекции зрителей, увидит их в деталях, увидит, что они делали, как кто себя вел и пр. и пр. Произойдет это потому, что он сознанием своим был занят сутью спектакля, а подсознательно бродил на свободе среди разных впечатлений, и чем сильнее было занято его сознание, тем лучше работало его подсознание в это время. Такие видения — признак того, что актер правильно, объективно стоит в действительности. И если он будет уметь ограничивать жизнь на сцене и жизнь вне сцены, с интересом относясь к ней, то его подсознание сослужит ему хорошую службу.
Из 16 главы. В древних драмах основным импульсом была судьба. Индивидуальность человека не принималась во внимание. Лицо закрывалось маской, голос смешивался со звуками музыкального инструмента. Словом, действовала судьба свыше. Но с началом и дальнейшим развитием эпохи души — сознат<ельно> входит новый элемент — любовь. Прежде любовь тоже была связана с судьбой, с социальным (например, «Антигона»), но с Bewusstseinszeitalter (эпоха сознания. — Примеч. ред.) появляется любовь двух полов, любовь индивидуальная. Точно так же появляется и юмор вместо сатиры (Аристофан). Юмор свободный, юмор, не привязанный к определенным условиям жизни, общественности, как сатира, но lebensbefreiende юмор. Как только человек <в драме> стал выходить из-под влияния судьбы, стал как бы сам творить свою судьбу. — появился юмор. А вместе со всем этим и характер появляется. Характер человека. И на месте древних масок появляются характерные маски. Индивидуальности человека в ее огромном целом не видели, но интересовались характерностью того или иного типа — Пантало-нэ, Труфальдино, Brigella, Адвокат из Болоньи и пр. Еще у Шекспира можно найти нечто от этого. Все это, конечно, народные, обобщенные характеры. Автор рекомендует учиться на пьесах этого порядка, чтобы постичь, как из среды вырастает тип, и это дает возможность актеру изображать индивидуальное. И вот судьба в сочетании с характером дают третье: поступки. В отличие от Schicksalsdrama (драма судьбы. — Примеч. ред.), они называются Charakterdrama (характерная драма. — Примеч. ред.). И важно познать две противоположности: Weihnachtsspielen (рождественские представления. — Примеч. ред.), где судьба действует оттуда, и упомянутые характер<ные> драмы. Комедия (Lustspiel) возникает из характеров, из любви и юмора. Как надо играть комедию и трагедию? Трагедия: начало надо играть в медленном темпе, с паузами. Паузы в речи и паузы между сценами. Не столько внутренне медленный темп, сколько медленный благодаря паузам темп. Это нужно для того, чтобы зритель имел время внутренне связаться с тем, что происходит. Середина: кульминационный пункт драмы — паузы исчезают, но темп речи и движений замедляется. Конец играют в ускоренном темпе. (Иначе останется кислое настроение у зрителя, чего при развязке трагедии быть не должно.) Скорость в речи и в жестах. (Конечно, соразмерно.) Комедия: в ней уже выступает характер. Начало проходит в подчеркивании характеров. (Если выступают характеры в смысле Панталонэ и т.д., то они сами о себе весело рассказывают, мы же, современные актеры, играем не столько характер в прежнем смысле, сколько ту или иную индивидуальность. И мы в аз-чале комедии должны речью и жестами подать тот характер, тот тип, индивидуальность, которую мы играем. По-Сашиному, это — «визитная карточка».) Сравни с началом трагедии: там речь идет о том, как в комедии же — о том, что. Середина: возникает интерес к тому, что, мол, из всей коллизии получится?! Надо подать поступки, так сказать, действие, интригу. (Характеризуя слова, подать поступки, говорит автор, и я не очень осознаю, что это значит: во всяком случае важно в середине подать поступки.) Конец: подать судьбу. Вторгается судьба, и все кончается к общему благополучию.
Чтобы мочь все это делать должным образом, надо хорошо вжиться в то, что такое характер, что такое поступки (Handlung) и что такое судьба.
И чтобы вжиться в то, что такое трагедия и что такое комедия, как два полюса, автор дает упр<ажнение> — стишки. Их надо повторять в каждую свободную минутку (хорошо бы их приготовить по всем правилам искусства, чтобы они сами собой говорились, произносились, как я писал об этом выше, и чтобы, произнося их, мы сами были свободны, и мыслью, чувством и волей жили в этих стишках. Но автор говорит: если есть свободная минутка — повторите эти стишки). С внутренним теплом углубись в трагический смысл (?) стишка:
Ach. Fatum,
Du hast
stark mich
umfasst
hinweg
den Fall
in den Abgrund.
Ach (это только приготовление). В слове Fatum можно задержать душу на буквах а и u. В слове «mich» появляется i. Чтобы самого себя вставить в то, что в стишке говорится. И снова буквы трагедии (а, u, i) повторяются во второй половине стиха. Дальше идут стишки для комедии. Произнося их, надо юмор не в себе держать, а стараться вложить его (у М.Чехова — «их». — Примеч. ред.) в буквы. Буквы, как видишь, построены очень смешно. Надо словами смеяться. Всмеяться в буквы. Дело не в хихиканьи — ибо тогда-то и не смешно, а смех внутренний, истинный вжить, вложить в буквы.
Jezt’ fühl ich,
wie in mir
linklock — hü
und lockläck — hi
völlig mir
wilzig
bläst.
При «linklock — hü» губы вытягивать, так что складки образуются сверху и снизу губ: так.
складки губы
При этом кажется верхняя губа чуть впереди нижней, но это наверное не знаю. При «lockläck — hi» губы растянуты и складки по бокам губ таким образом: понятно?
Я рисую складки, а губы не пытаюсь изобразить в измененном виде. Суди по складкам и ищи на этом основании сам. Это упражнение вводит в суть юмора.
Из 17 главы я уже сообщил тебе все существенное. Разве только вот еще что: музыкальное ведет назад к прошлому, а Bildnerische (изобразительное. — Примеч. ред.) ведет к будущему. Из главы 18. Говорится о необходимости серьезного настроения для актера по отношению к его делу. Он должен своим движением и своим существом — быть водителем в культуре без того, чтобы разрушать эту культуру. И в этом серьезнейшем настроении должны мы подойти к знанию о том, что в человеческом образе открывает себя Welt (мир. — Примеч. ред.). Подойдем еще с новой стороны к тому, как Welt открывает себя через Sprachgestaltung, через Wortgestaltung (словообразование. — Примеч. ред.). Губы человека есть то, через что происходит откровение сущности человека, поскольку человек проявляется через речь, Sprache. Три буквы выговариваются при помощи обеих губ: m, b, p Если мы выговариваем кроме этих трех букв еще и другие при помощи обеих губ, то мы грешим против Sprachgestaltung’a и вредно действуем на весь организм. Если мы выговариваем эти три буквы без постоянного инстинктивного сознания, что: обе губы суть действующие силы в этих буквах, — мы также вредим своему организму и Sprachgestaltung’y. Буквы f, v, w— выговариваются при помощи нижней губы и верхних зубов. В мускулах нижней губы заключена вся карма человека. Там текут и переливаются все течения, которые живут во всех членах человеческого тела (за исключением головы); значит, когда движется нижняя губа — выявляется весь человек (кроме головы). Верхняя губа и особенно верхние зубы — выявляют то, что заключено в организации головы. В верхних зубах как бы желает закрепиться то, что человек имеет в голове как сумму Weltgeheimnissen (вселенских тайн. — Примеч. ред.). Отсюда понятна философия букв m, b, p и букв f, v, w, то, что выявляется, когда мы правильно сочетаем губы или губы и зубы и т.д. (Надо заметить, что при w — нижн<яя> губа волнообразно дрожит, wellt, чего нет (напр<имер>, при v). Оба ряда зубов нужны для букв s, z, c. Тут приходят в равновесие обе части человеческого существа, и головной человек, и übrige (остальной. — Примеч. ред.) человек, т.е. тот, который заключен во всех членах. Мир пойман в этот момент человеком, и человек посылает в мир свое существо. Идем дальше вглубь, где открывается душевное, чувствующее, — приходим к языку. Откровение через язык и верхние зубы: l, n, d, t. Если через нижние губы и верхние зубы выражается то, чем стал человек благодаря миру, то через язык и верхн<ие> зубы раскрывается то, что есть человек благодаря тому, что у него есть душа. Раскрывается то, что разыгрывается между его душой и головой, языком и верхними зубами. Очень важно сознание (а для шепелявых и практика), что язык находится все время за зубами, поза ди зубов. Ибо язык никогда вообще не смеет появляться в речи перед зубами. Когда это случается (напр<имер>, при шепелявеньи), то получается то же, что было бы, если бы душа захотела выйти в природу, в Natur — без физического тела. Идем еще дальше вглубь. Человек должен осознать, что делает при речи корень его языка. Буквы при этом такие: g к, г, j, q. (Букву г нужно уметь говорить и просто, и гортанно, т.е. грассируя.) Сами губы, сами буквы — наши учителя, надо только научиться правильно их ставить. Мы должны пережить, что рот и гортань суть производители в нас букв. Кстати: автор указывает на то, что заикание связано с неправильным употреблением корня языка и с неправильным дыханием и что соответствующие упр<ажнения> могут помочь заиканию. Но это в скобках. Теперь дальше. Должно воспитать в себе серьезное отношение к буквам, ибо в них ursprünglich (изначально. —Примеч. ред.) заключен весь мир.
Колоссальное значение придает автор настроению актеров и режиссера по отношению к сцене и зрительному залу. Он говорит: сцена и кулисы — это один мир; другой мир — зрительный зал. Оба мира бесконечно разнятся друг от друга. За кулисами происходит одна жизнь, своя действительность, если угодно, тривиальная и пошлая действительность: двигают декорации, станки, разными приспособлениями извлекают разные звуковые и пр<очие> эффекты, это закулисная действительность. И вот эта тривиальная действительность должна преобразиться для зрительного зала в прекрасную иллюзию. Тут автор, сопоставляя эти два мира, говорит, что актеры и режиссеры должны изменить свое отношение к закулисному миру, должны перестать пошло говорить о технических приемах закулисной жизни и выработать по отношению к ним благоговейное отношение, ибо эта закулисная техника есть то, что для зрительного зала превращается в прекрасную иллюзию. Так надо заботиться о соединении зрительного зала со сценой. Когда ты вертишь какое-нибудь колесо за сценой, то надо пережить и почувствовать не то, что «я верчу технически колесо», а то, что отсюда создается для искусства. Не сентиментальными речами надо добиваться этого в театре, а делом. Ни на минуту нельзя забывать, что в зрительном зале должна родиться иллюзия из настроения актерских и режис<серских> сердец. И если даже зрительный зал ныне сам не на высоте, то только указанным способом удастся скорейшим образом поднять и уровень зрителя.
Из последней. 19 главы. Произносимые буквы связаны со всем человеческим организмом. Буквы, образующиеся в области нёба (и, в меньшей степени, в области гортани), проходят через всего человека до ступни и кончиков пальцев (до цыпочек). То, что образуется при помощи языка, — находится в связи с головой, включая верхнюю губу (нижняя губа не относится сюда), и отсюда идет к спинному хребту, в область спинного хребта. То, что произносится губами и зубами, — связано с грудью и вообще передними частями человека.
В этих трех направлениях весь человек укладывается в Sprache. Sprache творит всего человека по этим трем направлениям. Отсюда вытекает, напр<имер>, что благодаря нёбным буквам мы учимся ходить по сцене, что нёбные буквы проникают вплоть до ступни. Но автор говорит, что тут нельзя давать различных дальнейших правил, но надо самому доработаться до всего этого. И вообще, говорит автор, он не хочет, чтобы его поняли как предлагающего заниматься только буквами в сухом педантичном смысле (буквы сами по себе, и ими надо, конечно, заниматься), но главное в том, чтобы все, что он дает, охватить общим охватом, чтобы проработаться к прекрасной, истин- ной, текучей речи вообще. Учась, скажем, горловым буквам, мы делаем нечто для губных и т.д., все связано, все органично и целостно. Не педантизм, хотя и точная шкала. Правильные упражнения приведут к тому, что сам будешь всему учиться у самого Sprache. Углубляясь в жизнь букв, актер отходит от грубого идейного смысла. Актер должен нести жертвенный труд. Всякий умлаут обозначает, что нечто размножилось. Напр<имер>,
Вот, мой родной Миццццупочка, и все. Т.е., конечно, не все. Только намеки намеков. Но мне очень уж хотелось дать тебе полную картину 19 глав этой драматической книги. Сообщи — получил ли ты это письмо. Адрес: Italien, Capri (Napoli), Piccola Marina Pension Weber, Мне. Насчет круглых движений думаю, что не горизонтально, т.е. так:
Словом, как на рисунке, делал я, а не ты! Что такое Sprachgestaltung, ты, вероятно, понял теперь из целого. Но если неясно — спроси еще раз. Насчет русского языка думаю, что если делать то, что предлагается на немецком языке и что возможно все-таки по-русски, то скоро многое выяснится само собой. Но как я тебя целую! О если бы ты только знал, сука, как я тебя люблю, и целую, и кусаю, и укушенного рву, и разорванного тру, и растертого мну, и смятого тку, и оботканного нужу, и нуженного лью, и облитого составляю вновь в целое и вновь рву, кую и вновь составляю, и так представляй себе без конца, без конца.
Вся твоя Миха.
Прочитав написанное тебе, сам пришел в такой восторг, что попер, ничего не видя, по комнате и вонзился в стенную лампу лбом, отчего снова пришел в себя, о чем и сообщаю. Очень горюю, что не пишу ничего Нинке, но все время, отведенное для писания, уходит на письмо к тебе, и прошу я тя: не откажися сообщить, моли, что я ее помню и вот почему не успеваю написать. Дорогая, я еще ничего не писал о впечатлениях Рима, Неаполя, Везувия и пр. и пр. Но уж видно по приезде хвачу тебя Стамбулом! Сообщу только, что святость итальянцев дошла до того, что они один из банков в Риме назвали «Банк Святого Духа». В ресторане можно получить «Филе а la Святой Петр»! Лучшее вино называется «Слеза Христа». Словом, хохот и срам. В соборе Св.Петра поставлены статуи пап (каждый свою статую ставил). А один папа даже портрет своей любовницы вонзил в собор. Это все из смешного. Но серьезных и неизгладимо глубоких впечатлений больше, чем много. Об этом не напишешь меньше чем в шести томах с предисловием, послесловием и комментариями. Кую. Всасываю вас в себя, там же и остаетесь!
Насчет левой руки во время метания диска — указаний нет. Надо искать инстинктивно. Автор говорит не раз о том, что гимнастика должна быть несколько изменена по сравнению с греческой, но т.к. мы всяческой настоящей греческой не знаем, то нечего и менять. Руководись инстинктом.